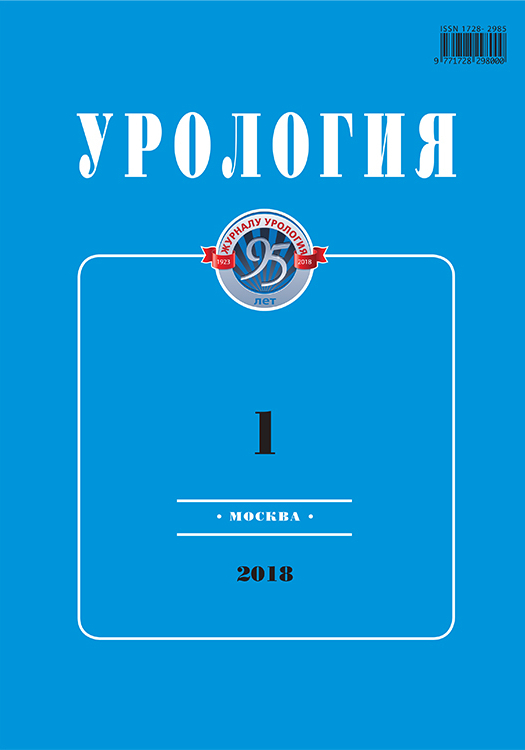Варикоцеле представляет собой варикозное расширение вен гроздевидного сплетения, осуществляющих отток крови от яичек, и считается довольно распространенным заболеванием.
Обычно клинические признаки ВЦ начинают проявляться в пубертатном периоде, когда гонады наиболее интенсивно увеличиваются в размерах: если до 11 лет заболевание манифестирует крайне редко, то с 11 до 14 лет его признаки обнаруживаются уже у 7,8% подростков, а с 15 до 19 лет – у 14,1%. Значительное усиление кровотока в артериях яичек в период полового созревания превышает емкость вен гроздевидного сплетения, что в конечном итоге и приводит к застою венозной крови и дилатации вен. Варикоцеле в общей популяции встречается у 15% мужчин, причем среди пациентов, страдающих первичным бесплодием, этот показатель достигает 25–35, у мужчин с вторичным бесплодием – уже 50–80% [1, 2].
Как правило, в 90% случаев варикоцеле развивается с левой стороны, его право- и двусторонние варианты встречаются крайне редко. Подавляющее большинство исследователей считают, что анатомические различия в венозном дренировании яичек могут служить основной причиной этого несоответствия, поскольку вена левого яичка впадает в почечную вену, где давление венозной крови выше, а вена правого яичка – непосредственно в нижнюю полую вену. Кроме того, различия в длине левой и правой яичковых вен и возможность сжатия левой тестикулярной вены верхней брыжеечной артерией и аортой – так называемый эффект щелкунчика – также могут приводить к повышению венозного давления именно с левой стороны. Одной из возможных «анатомических» причин развития варикоцеле является рефлюкс венозной крови по коллатералям между левой тестикулярной веной и кремастерной веной, наружной срамной веной, венами, направляющими связки яичка.
Рассматривая возможные факторы, провоцирующие варикоцеле, следует учитывать и тип телосложения пациента. Интересные данные получены при исследовании аутопсийного материала, полученного при вскрытии 77 трупов больных, у которых были проанализированы особенности их конституционального строения и состояние яичковых вен. В общей выборке мужчины с астенической конституцией составили 29, с гиперстенической – 36%. У всех «астеников» отмечено укорочение левой почечной вены при ее меньшем диаметре, что связано с более высоким расположением почек и их сближением; при этом левая яичковая вена, напротив, была удлинена. У трети мужчин гиперстенической конституции автор обнаружил различные аномалии строения почек и почечных сосудов. Таким образом, исходя из конституциональных особенностей, из группы риска по развитию варикоцеле можно исключить мужчин только с нормостенической конституцией [3]. В качестве предрасполагающих к варикоцеле факторов также рассматриваются запоры или пролонгированная диарея, значительное напряжение мышц брюшного пресса при поднятии тяжестей [2, 4–6].
В последние годы появилось много работ, в которых возникновение заболевания напрямую связывают с наследственностью пациента. Так, в одном из исследований авторы показали, что 56% родственников 1-го поколения (особенно братьев) больных варикоцеле также имеет данную патологию, что в 8 раз превышает показатели контрольной группы. В других подобных работах частота варикоцеле у родственников 1-го поколения встречалась в 34–45% случаев. Таким образом, варикоцеле можно рассматривать как генетически детерминированную патологию [4].
Было проведено исследование на выявление риска развития варикоцеле при полиморфизме гена, кодирующего синтез метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), важной для синтеза и метилирования ДНК, играет ключевую роль в процессе сперматогенеза и может быть генетическим фактором риска мужского бесплодия. Авторы оценивали частоту полиморфизма генов C677T и A1298C, кодирующих MTHFR у пациентов с варикоцеле и здоровых мужчин (C677T – участок, кодирующий последовательности ДНК гена MTHFR, в котором может происходить замена цитозина [С] на тимин [T] в положении 677; A1298C – участок ДНК гена MTHFR, в котором происходит замена аденина [A] на цитозин [С] в позиции 1298; замена аминокислоты в ферменте меняет его биохимические свойства). Типирование генов, кодирующих MTHFR в парах C677T и A1298C, показало статистически значимую разницу в показателях встречаемости генотипа 1298AA у пациентов с варикоцеле по сравнению с группой контроля. Согласно полученным результатам, генотип 1298AA в гене MTHFR повышает риск развития варикоцеле примерно в 2,3 раза по сравнению с мужчинами, несущими другие генотипы [7].
Исследователи из Американского общества генетики человека изучали соматические мутации в гене TEK, который кодирует рецептор к тирозинкиназе TIE2 на поверхности эндотелиальных клеток и вызывает более 50% эпизодически развивающихся фокальных венозных мальформаций. Аналогично мутациям в гене TEK соматическая активация мутаций гена PIK3SA вызывает дисрегуляцию эффектов ангиогенных факторов и нарушение дифференцировки эндотелиальных клеток: в одной из работ представлены статистически значимые генотипически фенотипические корреляции между изменениями генотипа и нарушениями строения сосудистых стенок у пациентов с данными типами мутаций [8]. Кроме того, в эксперименте на мышах и генетическом исследовании человеческого материла P. Castel и соавт. [9] показали, что мутации PIK3CA, а также относящихся к ним генов пути PI3К/АКТ способствуют нарушению передачи сигналов и тормозят пролиферацию эндотелиальных клеток, тем самым нарушая процесс нормального васкулогенеза в эмбриональном развитии, что может приводить к развитию венозных мальформаций. Более того, авторами предложена методика лечения данных нарушений, основанная на применении фармакологических ингибиторов PI3Kα, вводимых либо системно, либо местно. Опираясь на данные проведенных исследований, можно говорить о молекулярно-генетической подоплеке развития венозных мальформаций и варикоцеле [9].
Также были получены интересные данные относительно сопряженности варикоцеле с мальформацией сосудов артериального типа. E. Yetkin и соавт. приводят данные, согласно которым у пациентов с аневризмальным расширением коронарных артерий риск развития варикоцеле довольно высок, что позволяет предполагать некую схожесть в морфогенезе заболеваний сосудов венозного и артериального русла. Авторами обследованы 98 мужчин с эктазией коронарных артерий на предмет наличия варикоцеле; у трети пациентов признаки ишемической болезни сердца (ИБС) не выявлялись, у двух третей отмечены признаки ИБС на фоне эктазии коронарных артерий. При этом варикоцеле выявлено в 62% случаев у пациентов с эктазией коронарных артерий и ИБС, в 38% – у мужчин без признаков ИБС [2, 10].
Сопоставив данные пациентов, страдавших варикоцеле и варикозной болезнью вен нижних конечностей, S. Kiliс и соавт. обнаружили, что у пациентов с варикоцеле значительно выше риск развития варикоза. В исследование вошли 100 пациентов, перенесших операцию флебэктомии; у 72% из них диагностировано варикоцеле разной степени. Иными словами, у этих пациентов развилась так называемая системная венозная недостаточность, в основе которой может лежать несостоятельность клапанного аппарата как вен нижних конечностей, так и яичек [4, 11].
Сопоставив нарушения гемодинамики в различных органах мочеполовой системы, H. Sakamoto и соавт. получили данные, согласно которым у мужчин, страдающих крайне редкой, билатеральной, формой ВЦ, увеличен средний диаметр сосудов простатического венозного сплетения и усилена максимальная скорость ретроградного тока крови в этой зоне. Таким образом, варикоцеле, особенно его билатеральная форма, может быть сопряжено с нарушениями строения стенок и клапанов нижележащих вен [12].
Особенности ремоделирования внеклеточного матрикса стенок вен и роль в этом процессе металлопротеиназ (ММП) были также определены в качестве возможных факторов патогенеза варикоцеле [13, 14]. Было обнаружено повышенное содержание ММП-2 у пациентов, страдающих данным заболеванием. В одном из исследований авторы анализировали экспрессию достаточно редко используемого маркера ММП-9 для определения взаимосвязи между развитием варикоцеле, паховой грыжей, варикозной болезнью вен нижних конечностей и метаболизмом коллагена. Было показано, что ММР-9 может рассматриваться как общий для всех перечисленных заболеваний маркер, который отражает наличие генерализованной и прогрессирующей дезорганизации соединительной ткани и нарушение метаболизма коллагена [14].
Рассматривая различные патогенетические варианты формирования варикоцеле, следует упомянуть и о роли такой сигнальной молекулы, как оксид азота (NO), вырабатываемой эндотелиальными клетками. Известно, что одной из ключевых функций NO служит способность снижать контрактильность гладкомышечных клеток стенок сосудов и вызывать вазодилатацию. Если применительно к артериям этот эффект положителен, то в сосудах венозного типа это приводит к нарушению оттока, повышению гидростатического давления и способствует развитию венозной недостаточности. В одном из исследований выявлено, что концентрация NO, определенная во внутрияичковой жидкости путем колориметрирования, повышена у мужчин с варикоцеле. K. Shiraishi и соавт. обследовали 27 мужчин с ВЦ II и III степеней с нормальным сперматогенезом, которые перенесли операцию левосторонней варикоцелэктомии, и 5 здоровых мужчин контрольной группы. У пациентов с ВЦ по сравнению с группой контроля в биоптатах яичек выявили значительное повышение содержания NO и экспреcсии синтазы NO (NOS) или экспрессии индуцибельного NOS (iNOS). Таким образом, развитие венозной недостаточности при варикоцеле можно связать и с усилением эффектов NO за счет увеличения его концентрации [15, 16].
Вопрос о механизмах рецидивов варикоцеле до сих пор дает повод для дискуссий. В исследовании, проведенном корейскими авторами, были проанализированы случаи рецидивирующего варикоцеле и сформулирована концепция его формирования. Из 159 прооперированных пациентов с III степенью варикоцеле в возрасте 12–42 лет у 11 развился рецидив заболевания, что составило около 7%. Всем пациентам была проведена однотипная операция варикоцелэктомии субингвинальным (подпаховым) методом. Время от операции до развития рецидива варьировалось от 1 мес. до 1 года. По мнению авторов, механизмы развития рецидива варикоцеле после операции аналогичны непосредственным причинам развития заболевания: это прежде всего рефлюкс из венозных коллатералей и повышение давления в яичковых венах, а также несостоятельность клапанов оставшихся фрагментов вен. Авторы считают оправданным использование в процессе операции микроскопической техники, что дает возможность не пропустить даже мельчайшие дилатированные ветви и лигировать их, идентифицировать лимфатические сосуды, веточки тестикулярной артерии. Основной проблемой после операции лигирования остается возможность дренажа венозной крови по паховым и ретроперитонеальным венозным каналам – коллатералям с яичковыми венами. Таким образом, наличие коллатеральных венозных анастомозов между внеканатиковыми венами и системой вен гроздьевидного сплетения является вторым важным фактором рецидива варикоцеле. Несмотря на то что в данной работе рассматриваются случаи рецидивирующего варикоцеле у подростков и молодых пациентов, авторы не упоминают возможность развития врожденной несостоятельности как самих стенок яичковых вен, так и их клапанного аппарата, которая, как уже упоминалось выше, может быть генетически детерминированной. Развитие рецидивов варикоцеле объясняется ими по большей части механистически – за счет поступления избыточного количества крови по коллатералям и анастомозам и повышения гидростатического давления в оставшихся после лигирования венах системы гроздьевидного сплетения [5, 6].
Широкое исследование, посвященное изучению частоты развития рецидивов одно- и двустороннего варикоцеле с подробным анализом данных литературы почти за 30 лет, было проведено в 2015 г. урологами Университета Брауна, США. Авторы рассматривали особенности различных техник хирургических вмешательств, аномалии параметров спермограммы у пациентов с рецидивами варикоцеле.
В использованных источниках литературы представлены данные с большим разбросом показателей: в 4 публикациях процент развития рецидива варикоцеле варьировался от 7 до 35 (при выполнении операций по Паломо); в 5 статьях, посвященных анализу последствий лапароскопического удаления яичковых вен, частота рецидивов составила лишь 2–7%; в 2 работах, когда рецидивы варикоцеле выявлялись после вмешательств, выполненных из пахового или подпахового доступа, их регистрировали не более чем в 2,5% случаев; в 10 исследованиях, где анализируются последствия микрохирургической техники, выявлено минимальное количество рецидивов – от 0 до 3,5% [5, 6].
Согласно данным, полученным нами при анализе архивного материала 1-го хирургического отделения ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, Москва, за 5-летний период (с 2012 по 2016 г.) там находились на лечении 1517 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет с диагнозом «левостороннее ВЦ». В младшей (от 3 до 7 лет) возрастной группе были прооперированы 8 детей, в средней (от 8 до 14 лет) – 635, в старшей (от 15 до 17 лет) – 874 мальчика. Детям проведно открытое и лапароскопическое лигирование яичковых сосудов слева с сохранением путей лимфооттока. За изученный период в больницу обратились 23 мальчика с диагнозом «рецидив варикоцеле», что составляет около 1,5%. Способы повторного оперативного вмешательства у детей с рецидивом были различны: у 7 мальчиков проведена лапароскопическая перевязка яичковых сосудов, у 12 – открытая операция с перевязкой яичковых сосудов (по Паломо, Иваниссевичу, Бернарди), у 4 – эндоваскулярная окклюзия яичковых вен спиралью Гиантурка. Практически всем этим пациентам (19 из 23) проведена диагностическая яичковая флебография слева, после чего выполнено повторное оперативное вмешательство: эндоваскулярная окклюзия левых яичковых вен этоксисклеролом (8 человек) и спиралью Гиантурка (1), лапароскопическая перевязка яичковых сосудов слева с сохранением путей лимфатического оттока (10). Анализируя полученные данные, следует упомянуть, что при возникновении рецидива заболевания многие родители могли обратиться за помощью в другие стационары или по месту жительства, поскольку данная больница обслуживает достаточно широкий контингент детей, в том числе и не из Московского региона. Таким образом, установить истинный процент развития рецидива варикоцеле в нашем исследовании не представляется возможным, а полученные цифры можно считать условными.
Обсуждение особенностей рецидивирующего варикоцеле невозможно без современной трактовки механизмов его развития. Прежде всего необходимо остановиться на роли синдрома дисплазии соединительной ткани (ДСТ), в рамках которого, согласно классификации Т. И. Кадуриной (2000), принято выделять дифференцированные и недифференцированные формы. Врожденная патология развития клапанного аппарата сердца, аорты, а также сосудов венозного русла часто бывает ассоциированной с наличием у пациента синдрома ДСТ и рассматривается в качестве его сосудистых проявлений. Согласно трактовке Т. И. Кадуриной, варикозное расширение вен любой локализации, связанное с врожденными нарушениями строения их стенок, относится к так называемым малым феномам синдрома недифференцированной ДСТ. Развитие данного синдрома сопряжено с врожденной системной «неполноценностью» соединительной ткани за счет генетически детерминированного нарушения синтеза коллагена III типа, когда количество «незрелого» коллагена в тканях и органах увеличивается. Слабость и недостаточность клапанного аппарата вен, а также несостоятельность их стенок, в основе которых лежат вышеназванные структурные изменения, в итоге приводят к развитию ретроградного венозного кровотока – рефлюкса крови – и повышению гидростатического давления; в финале этого процесса происходит необратимое расширение просветов вен. Таким образом, прослеживается прямая связь между наличием у пациента синдрома недифференцированной ДСТ и развитием варикоцеле. Кроме того, можно говорить, что синдром недифференцированной ДСТ не только является предпосылкой развития несостоятельности стенок яичковых вен, но и лежит в основе развития рецидивов варикоцеле [17].
В связи с этим следует упомянуть интересные данные, полученные в рамках рандомизированного исследования [18]. За 5-летний период времени был обследован 721 подросток в возрасте 12–19 лет. Из них 38,4% имели I степень варикоцеле, 22,9% – II, 30,5% – III степень, у 3,7% больных диагностировано двустороннее варикоцеле.
С рецидивом заболевания на стороне хирургического вмешательства за повторной медицинской помощью в последующем обратились 4,4% пациентов, 72% из которых ранее была проведена операция по Иваниссевичу, в отношении 15,6% был использован рентгенэндоваскулярный метод лечения, у 12,5% – лапароскопический. У всех пациентов с рецидивом заболевания присутствовали клинические стигмы синдрома недифференцированной ДСТ. Общее количество этих признаков варьировалось от 7 до 16, среди которых отмечены гипермобильный синдром, долихостеномелия, торакодиафрагмальный синдром, вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен нижних конечностей. По итогам исследования авторы сделали вывод, согласно которому у всех подростков с рецидивом варикоцеле обнаруживаются 7 и более маркеров недифференцированной ДСТ, что подтверждает наличие у них данного синдрома и указывает на его решающую роль в развитии рецидива [18].
Таким образом, с уверенностью можно говорить, что какой бы прогрессивный и современный метод ни использовался в клинике для оперативного лечения варикоцеле, в определенном проценте случаев будут возникать рецидивы. В основе патогенеза как «первичного», так и рецидивирующего варикоцеле лежит прежде всего врожденная несостоятельность стенок вен и их клапанного аппарата, которая носит генетически детерминированный характер и связана с синдромом недифференцированной ДСТ [5, 6]. К другим факторам, способствующим развитию ВЦ и его рецидивов, можно отнести особенности анатомического строения вен сосудистых сплетений яичка и простаты, тип конституции пациента, сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, приводящие к запорам или длительной диарее, наличие физических нагрузок. Детальное изучение роли синдрома ДСТ в формировании ВЦ позволит обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов, в том числе подбор хирургического вмешательства, и с большей вероятностью прогнозировать развитие его рецидивов.