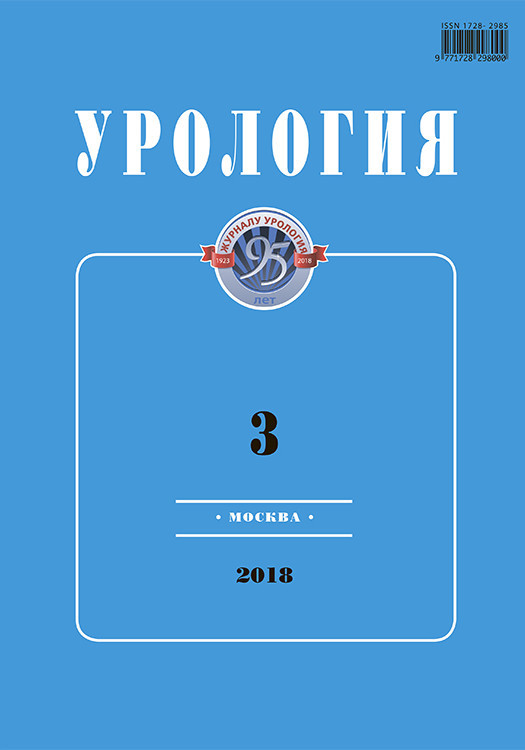В Сыктывкарской Республиканской детской клинической больнице в мае 2017 г. во время проведения конференции детских урологов с участием Dr. de Castro были прооперированы 6 девочек с выраженной вирилизацией наружных половых органов (НПО) при классической форме врожденной гиперплазии надпочечников (ВГН) и 1 мальчику выполнен первый этап фаллопластики [1] по поводу афаллии.
У 3 из 6 девочек с высоким урогенитальным синусом (УГС) вагинопластика осуществлена через передний сагиттальный трансаноректальный доступ (ASTRA), предложенный De Castro [2, 3]. Одновременно выполнена реконструкция клитора по Pippi Salle [4] как составная часть одномоментной феминизирующей генитопластики.
Кроме того, обсуждались противоречивые вопросы, касающиеся проблемы нарушения полового развития – НПР, все еще далекие от своего разрешения [5], несмотря на то что минуло уже 10 лет после опубликования результатов конференции в Чикаго [6], на которой были приняты согласованные решения.
В настоящей статье мы излагаем наш взгляд, основанный на знакомстве с новейшей литературой и скромном личном опыте, на некоторые нерешенные вопросы данной проблемы в связи с тем, что в отечественной литературе они практически не обсуждаются.
Первым из них является вопрос о терминологии/номенклатуре, которая была полностью изменена на конференции в Чикаго во многом под давлением «общественных групп», поддерживающих пациентов, не удовлетворенных звучанием поставленных им диагнозов [6, 7]. Термин «интерсекс» был заменен на словосочетание «нарушения полового развития», а в основу классификации вместо гистологического строения гонад был положен кариотип. Несмотря на появлявшиеся критические замечания в отношении новой номенклатуры, она была широко признана. Врачи приняли новую терминологию с легкостью и без лишних вопросов, возможно, чтобы казаться современными, хорошо информированными и восприимчивыми к сегодняшним противоречиям, касающимся лечения [8].
Однако вскоре слово «нарушения» в общем названии стало все чаще заменяться на «различия» с тем, чтобы сделать его (название) еще более «политкорректным». Вероятно, по той же причине описание НПО у новорожденных как имеющих неопределенный вид или допускающих двоякое толкование, что наиболее точно отражает ситуацию при интерсексуальных состояниях, перестало употребляться. Стали использовать слова «нетипичные гениталии».
Тем не менее и это не помогло – теперь пациенты с данной патологией уже не хотят, чтобы в их диагнозе звучал и термин «нарушение полового развития»: большинству (>70%) из почти 600 опрошенных пациентов с ВГН и их родителей этот термин не нравился или очень не нравился; более 75% считали, что он оказывал на них негативное влияние, и более 85% не поддерживали его использование [9]. Несмотря на это, и сейчас, в 2017 г., Wang и Poppas продолжают считать, что мнение пациентов надо учитывать, поэтому необходим новый пересмотр номенклатуры [10].
Однако более существенно то, что до сих пор остается нерешенным: какая же патология должна рассматриваться под этим общим названием: только та, при которой хромосомный, гонадный и анатомический пол не совпадает, или и другие врожденные аномалии половых органов, такие как изолированный крипторхизм, изолированная гипоспадия, афаллия/микропенис, с одной стороны, и сращение половых губ, агенезия влагалища, аномалии клоаки, с другой?
Это противоречие было заложено в самом консенсусном решении. В статье, где последнее было опубликовано, противоречие лишь угадывалось. Однако после уточнения деталей консенсуса путаница стала очевидной [6, 7]. Достаточно сравнить две таблицы под № 2 с одинаковыми названиями «Классификация нарушений полового развития» из той и другой статей, чтобы убедиться в сказанном: в таблице, более поздней из них [7], появляются и перечисляются врожденные аномалии половых органов (крипторхизм, агенезия влагалища и т.д.), которые, собственно, к НПР не имеют никакого отношения.
Дело в том, что название «нарушения полового развития», принятое на конференции в Чикаго, было предложено «группами поддержки» (или лоббистскими группами) и ими до этого распространялось на целый ряд патологических состояний органов мочеполовой системы. Однако когда этому названию медицинским сообществом было дано четкое определение и стало ясно, что под ним надо понимать «врожденные состояния, при которых развитие хромосомного, гонадного или анатомического пола является нетипичным» (или иначе – между этими составляющими пола имеются несовпадения), тогда и возникло рассматриваемое противоречие. По-видимому, следует признать правильность замечания, сделанного R. Gonzalez и B. Ludwikowski [8], в отношении того, что сгруппированные под «зонтиком» НПР состояния были отобраны по критериям, научность которых вызывает вопросы.
С того времени на протяжении 10 лет рубрики (их число и названия) в предложенной классификации [6] постоянно меняются. Об этом свидетельствует и недавняя обзорная статья [5].
Отдельным вопросом остается формулировка конкретных диагнозов. Надо отметить, что в консенсусном решении подчеркивалось, что при этом следует избегать излишнего упоминания кариотипа и описательные термины должны использоваться там, где это только возможно. Однако на практике все происходит иначе. Так, в уже упомянутой статье [5], авторами которой стали 30 мировых экспертов, по-прежнему вместо понятного всем диагноза «адреногенитальный синдром», или «врожденная гиперплазия надпочечников», использован «46,ХХ DSD» (46,ХХ НПР), а вместо «смешанная дисгенезия гонад» – «45,Х/46, XY DSD» (45,Х/46, XY НПР).
Ситуация становится еще более запутанной, если рассматривать и номенклатуру/терминологию, используемую в отечественной литературе. Словосочетание «нарушения полового развития» является прямым переводом «disorders of sex development – DSD». В таком переводе на русский, строго говоря, остается не совсем понятным, о каком развитии идет речь: об эмбриональном половых органов, или о половом развитии ребенка – оба из них могут быть нарушены? Наиболее же часто используемое у нас название «нарушения формирования пола» не соответствует зарубежному, поскольку слово «development» не переводится как «формирование». Однако почему-то указывалось [11], что именно оно было принято на международной конференции в Чикаго. Это несоответствие становится особенно очевидным в названии рубрик, где, например, вместо «46,ХХ DSD» («46,ХХ НПР») используется «46,ХХ нарушение формирования пола».
По тем же причинам и другие варианты: «патология полового развития», «неопределенная половая принадлежность», «неопределенность пола», не могут считаться удовлетворительными. Отсюда, как нам представляется, наилучшим выбором является употребление следующего общего названия патологии: «нарушения половой дифференцировки – НПД», которое имеет аналог и в англоязычной литературе («disorders of sex differentiation – DSD») и широко употреблялось ранее [12].
Вызывает также вопросы описание НПО у ряда новорожденных с НПД как имеющих «интерсексуальное строение», или «двойственное строение». Если термин «интерсекс» и производные от него признаются «этически неприемлемыми», то зачем их употреблять? В чем состоит «двойственное строение», или «двойственность гениталий»: при микропенисе, например, или при наличии нормально развитого фаллоса при V степени вирилизации по Prader?
Однако наибольшее значение имеют различия в формулировке диагнозов и в подразделении больных. Так, например, в группу «46,ХХ нарушение формирования пола» кроме пациентов с ВГН включались и дети, которые по международной классификации относятся к другой (46,XX testicular DSD). Или в отдельную, имеющую четкие критерии группу больных со смешенной дисгенезией гонад были включены пациенты, относящиеся к другим категориям (46,XY DSD и 46,XY complete gonadal dysgenesis), и наоборот [11, 13].
Может быть, действительно пора изменить номенклатуру? Однако в любом случае отечественная терминология должна быть приведена в соответствие с международной и унифицирована, иначе без общего языка трудно понимать друг друга.
Не имея возможности в ограниченных рамках обзора рассматривать все варианты патологии при НПД, остановимся лишь на самой многочисленной группе, в которую входят пациенты с классической формой ВГН. Это оправданно и потому, что лечение именно этих детей обсуждалось детскими урологами, собравшимися в Сыктывкаре.
Кажется совершенно очевидным, что все пациенты этой группы являются девочками, имеющими кариотип 46,ХХ и нормально сформированные внутренние женские половый органы. Однако вопросы выбора пола, а также необходимости феминизирующей генитопластики, сроков и способов ее проведения продолжают активно обсуждаться.
Рассмотрим их в порядке перечисления.
Если ранее считалось, что у больных классической формой ВГН при своевременной диагностике вопрос о назначении иного, чем женский, пола не стоит (исключения встречались в некоторых культурах), то сейчас серьезно обсуждается вопрос о выборе мужского пола ребенку с очень выраженной/полной вирилизацией при 46,ХХ ВГН [14, 15]. P. Lee et al. [14] сообщили о 10 таких взрослых пациентах, которые воспитывались в мужском поле, имели мужскую гендерную идентичность и жили половой жизнью с женщинами. Это дало основание авторам считать, что принятый ранее подход к назначению пола упрощен, негибок, догматичен [15].
Интересно, что в рекомендациях [6] говорилось, что всем больным с ВГН и кариотипом 46,ХХ должен назначаться женский пол, а авторами этих рекомендаций в числе других были P. Lee и C. Houk. И вот спустя всего 4 года они же стали считать, что догматичный подход необходимо заменить прагматичным, согласно которому пациентам этой группы, имеющим вирилизацию НПО IV–V степеней по Prader, следует назначать мужской пол, и то, что это не делалось, связано с ошибкой в консенсусном решении [16].
При этом прагматичном подходе если и можно предполагать успешные сексуальные отношения с лицами противоположного пола, то ни о какой фертильности, разумеется, не может быть и речи. К тому же описаны случаи дисфории и при назначении мужского пола [17]. Кроме того, при воспитании ребенка из данной группы мальчиком в дальнейшем потребуется удаление гонад и проведение пожизненной заместительной терапии тестостероном [18].
Одним из аргументов, которые были приведены C. Houk и P. Lee в пользу выбора мужского пола девочкам с ВГН при полной маскулинизации НПО, явилось и то, что в таком случае можно обойтись без хирургического вмешательства, по крайней мере до возраста, когда ребенок сам может решить, необходимо ли оно. И конечно же, подчеркивалось, что это хорошо согласуется с мнением «поддерживающих групп».
Наиболее категорично против такого «прагматичного» подхода высказались R. González и B. Ludwikowski [8, 19]. Тщательно проанализировав литературу, в том числе и ту, на которую ссылались C. Houk и P. Lee, они пришли к выводу, что гендерная дисфория встречалась у небольшого числа женщин с ВГН, которым сразу после рождения был установлен женский пол. При этом у многих из них трудно было оценить адекватность проводимой заместительной терапии и исключить причину, заключавшуюся в продолжающемся воздействии андрогенов. А столь выраженная дисфория, которая приводила к желанию смены пола во взрослом состоянии, описана лишь у нескольких больных с ВГН, с рождения воспитывавшихся в женском поле (и опять некоторым из них адекватная заместительная терапия, по-видимому, не проводилась).
R. González и B. Ludwikowski [8] отмечали, что трудно представить себе, почему сложности относительно выбора пола, характерные для других вариантов НПД, были распространены на ВГН, при которой 95% пациентов с правильно проведенным эндокринологическим и хирургическим лечением имеют женскую гендерную идентичность и соответствующую сексуальную активность, нормальную возможность зачатия и, пусть и сниженную при выраженной вирилизации, возможность рождения ребенка. Считая, что дети с кариотипом 46,ХХ и с ВГН без всяких сомнений имеют женский пол, авторы высказали мнение, что поэтому их даже не следует включать в категорию больных НПД.
Одновременно с противоречиями в вопросе о выборе пола у детей с кариотипом 46,ХХ и ВГН имеются не менее парадоксальные противоречия и относительно необходимости проведения у них хирургического лечения, которые во многом спровоцированы «группами поддержки».
В общем виде ситуация выглядит следующим образом: в противовес традиционной точке зрения на необходимость раннего установления диагноза (в рассматриваемом случае 46,ХХ ВГН), назначения соответствующего пола (женского) и при выраженной вирилизации (Prader >II степени) проведения феминизирующей генитопластики имеется и другая, весьма нетрадиционная, точка зрения. Заключается она в том, что нет никаких оснований продолжать устанавливать половую принадлежность у детей и осуществлять им хирургические вмешательства на гениталиях [20]. При этом в еще недалеком прошлом задаваемые вопросы, как называть ребенка, как его воспитывать и т.д., а также указания на то, что промежуточного (между мужским и женским), «третьего», пола нет и не может быть, по-видимому, сегодня не актуальны.
Операции на гениталиях, осуществляемые в детском возрасте, были названы «косметическими и ненужными с медицинской точки зрения» (не имеющими медицинских показаний), а поэтому на их проведение должен быть наложен мораторий.
Несмотря на кажущуюся абсурдность, вопрос этот достаточно серьезен. M. Diamond и J. Garland [20, 21] ссылались на то, что их столь категоричное мнение было недавно полностью поддержано в специальном докладе на Генеральной Ассамблее ООН, а также Парламентской Ассамблеей Совета Европы и что к этим организациям в данном вопросе присоединилась и ВОЗ. Хирургам в лице ведущих членов Европейского и Американского обществ детских урологов [22] пришлось «оправдываться» в связи с этим, реагировать на слово «torture» (пытка), отнесенное к лечению в указанном выше специальном докладе; разъяснять, что проводимые детям с НПД хирургические вмешательства имеют четкие медицинские показания и не являются «косметическими».
Другие авторы отмечали, что внедрение такой тактики может представлять собой разновидность эксперимента над людьми, что требует серьезного медицинского, этического и философского обоснования [8]. И если запретить раннюю реконструкцию НПО у девочек с ВГН, хирурги должны будут, оставаясь законопослушными и последовательными в своих действиях, отказаться, например, и от коррекции гипоспадии у младенцев и детей, поскольку те также не могут давать согласие на операцию [23]. К тому же в настоящее время все равно нет другого выбора, чем хирургически корригировать измененные гениталии, независимо от возраста или назначенного пола [24].
Безусловно, немногие напрямую поддерживают столь маргинальную точку зрения в отношении хирургического лечения больных НПД, в частности девочек с ВГН, поэтому большинство авторов считают, что при классической ее форме осуществление феминизирующей генитопластики необходимо. Однако дискуссия в отношении сроков проведения последней продолжается. И иногда она исподволь сводится к тому, что хирургическое лечение детям все же не должно проводиться.
Предложения отсрочки оперативного лечения как минимум до подросткового возраста связаны с рядом моментов.
Первым и, по-видимому, самым главным из них является то, что в возрасте полового созревания ребенок имеет уже сформировавшуюся половую идентичность и может сам принимать решение о необходимости того или иного хирургического вмешательства. Это тесно связано с вопросом, кто имеет право решать, проводить операцию или нет: родители или только сам ребенок? А также с законодательным решением о регистрации младенца без установления пола, отсутствующим в большинстве стран.
Вторым моментом, который служит основанием проведения отсроченного хирургического лечения, является неудовлетворенность больных отдаленными результатами операций, проведенных им в раннем детском возрасте, в отношении как сексуальной функции, так и необходимости повторных вмешательств по поводу возникших хирургических осложнений (прежде всего стенозов влагалища).
Поскольку вопрос о времени проведения оперативного лечения при ВГН является одним из наиболее противоречивых и широко обсуждаемых, о чем пишут практически все авторы, рассмотрим всесторонне перечисленные выше моменты.
С учетом изложенного относительно назначения пола детям с ВГН и кариотипом 46,ХХ представляется, что в России первый аргумент в пользу отсроченного вмешательства, который заключается в том, что последнее может проводиться только с согласия самого подростка после четкого осознания им своей половой принадлежности, вообще не имеет смысла принимать всерьез. Это действительно так, если следовать классической точке зрения на то, что все больные с ВГН и кариотипом 46,ХХ имеют, без всяких сомнений, женский пол. Последний должен быть установлен сразу после подтверждения диагноза ВГН, и воспитание девочки должно осуществляться соответствующим образом под контролем психолога. Адекватность проводимой гормональной терапии должна постоянно контролироваться эндокринологом. При соблюдении этих условий практически все девочки, становясь взрослыми, идентифицируют себя женщинами. Подвергать всех их «эксперименту» только потому, что описаны редкие случаи возникновения выраженной гендерной дисфории с желанием смены пола, кажется совершенно нелогичным, тем более что такая гендерная дисфория возможна и у совершенно здоровых (не имевших никаких признаков НПД) женщин.
При оценке второго аргумента следует учесть следующее.
Первое. Неудовлетворительные отдаленные результаты, которые заставляют сомневаться в целесообразности ранней хирургической коррекции, получены в основном при устаревших методах оперативных вмешательств, в настоящее время уже не используемых [25]. Действительно, отдаленные результаты операций, проведенных на первом-втором году жизни ребенка, могут быть оценены не ранее, чем через 15–20 лет. За это время происходят значительные положительные изменения как в способах хирургической коррекции, так и в технике их выполнения [25, 26].
Второе. Это касается результатов в отношении сексуальной функции женщин. S. Creighton [27] одна из первых подняла этот вопрос в 2001 г., и с тех пор он продолжает обсуждаться. Материалы наиболее часто цитируемой статьи авторов из Лондона, одним из которых была S. Creighton [28], уже подробно рассматривались [29]: в статье говорилось о том, что хирургические вмешательства на клиторе приводили к нарушению сексуальной функции у женщин (снижению сладострастия и отсутствию оргазма).
В связи с этим приходится касаться далекого от детской урологии вопроса: о женской сексуальности. Недавние обзорные статьи на эту тему однозначно свидетельствуют о том, что она полна противоречий, и мы все еще мало знаем о природе женского оргазма и механизмах его достижения [30–32]. В «Очерках» [29] двое из нас, анализируя статью C. Minton и соавт. [28], робко, в скобках, среди других задавали и следующие вопросы: не преувеличена ли роль клитора в достижении оргазма и не преувеличен ли тот факт, что все женщины, не имевшие вмешательств на клиторе, испытывали оргазм? Теперь после знакомства со специальной научной литературой мы может однозначно сказать – да, в обоих случаях имелось преувеличение.
Клитор, возможно, и является основной, но далеко не единственной эрогенной зоной, при стимуляции которой может быть вызван оргазм. Интересно, что в первой половине прошлого века считалось, что женщины, испытывающие оргазм только при прямой стимуляции клитора, «застряли» на эгоистичной, детской фазе своей сексуальности. Эти представления претерпели кардинальные изменения с начала 1970-х гг., когда стали считать, что большинство (около 70%) женщин достигают оргазма только таким способом – в это время клитор «стал социополитическим флагом» феминисток [31]. Теперь же показано, что роль клитора не столь значительна в достижении оргазма при половом акте, как было принято считать [30].
Только около 50% здоровых женщин испытывали оргазм при половых сношениях. И это в Финляндии, которая в последнее время занимает лидирующее положение в отношении равенства полов, где женщины имеют исключительное положение по сравнению с другими странами и получают всестороннее сексуальное просвещение на самом высоком в Европе уровне [30]. По-видимому, в других местах дела обстоят еще хуже, если имеется и такое экспертное заключение: «На самом деле большинство женщин в мире не испытывают оргазма во время полового акта» [33].
Кроме того, надо иметь в виду и исследования, которые стали проводить на Западе в связи с нарастающим потоком мигрантов из стран Африки, где женщинам традиционно выполняется «ритуальное обрезание» (female genital mutilation) [34, 35]. Последнее имеет несколько вариантов, включающих частичное или полное удаление клитора и/или обуживание входа во влагалище, – в этом смысле женщины, подвергшиеся «ритуальному обрезанию», не отличаются от пациенток с ВГН, которым в детстве была выполнена феминизирующая генитопластика, приведшая к частичному отсутствию клитора и стенозу влагалища. Несмотря на то что в целом женщины с «ритуальным обрезанием» имеют более низкое качество сексуальной жизни и более высокую частоту некоторых проявлений сексуальной дисфункции, чем здоровые, было показано, что и они довольно часто испытывали сексуальное возбуждение и оргазм [36, 37].
Таким образом, с учетом всего изложенного выше возникает недоумение: как можно сводить сексуальность женщин, которая зависит от множества факторов [30, 38–40], только к чувствительности головки клитора, и на этом основании говорить о необходимости запрета проведения операций девочкам при вирилизации НПО?
Наконец, недавно было показано [41], что, несмотря на значительное снижение чувствительности клитора у женщин с ВГН, оперированных в детстве, сексуальная функция у них была полностью сохранена – все они испытывали сексуальное влечение, наслаждение и оргазм; последний – всегда или почти всегда.
В заключение к данному разделу обзора следует подчеркнуть следующее: участие детского уролога/хирурга необходимо в обследовании и лечении прежде всего тех детей с НПД, которые имеют при рождении НПО неопределенного вида. Именно в ведении этой группы больных и должна осуществляться слаженная работа «междисциплинарной команды», что требует взаимопонимания между ее членами.