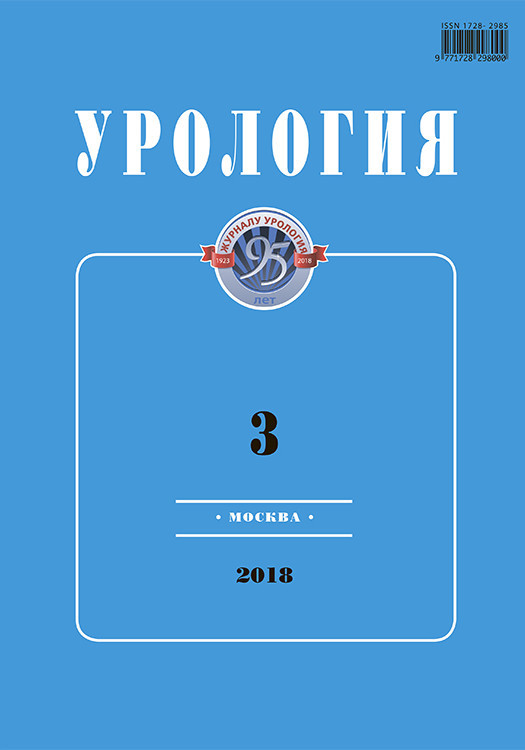Многие вопросы, относящиеся к сложной проблеме нарушений половой дифференцировки (НПД), все еще не разрешены. В первой части обзора рассмотрены противоречия, касающиеся терминологии и номенклатуры, а также лечения детей с классической формой врожденной гиперплазии надпочечников (ВГН): выбора пола и необходимости проведения хирургической коррекции вирилизированных гениталий. Теперь необходимо рассмотреть и еще один момент, касающийся всех перечисленных вопросов в отношении тактики лечения девочек с классической формой ВГН. Странно, что в абсолютном большинстве статей на эту тему он даже не возникал. А ведь действительно не понятно, почему назначение женского пола и ранняя хирургическая коррекция у девочек с ВГН вызывают столько вопросов, тогда как их нет при назначении мужского пола и проведении ранней коррекции у мальчиков с гипоспадией? Отчего возникает такая разница в подходах к двум группам больных, имеющих очень много общего: в обеих хромосомный пол однозначен (однозначен и гонадный пол), в обеих может быть проведена успешная хирургическая коррекция, ведущая к потенциально нормальным сексуальной и репродуктивной функциям, и наконец в обеих гендерная дисфория является редкой? Следует иметь в виду и то, что отдаленные результаты реконструктивных операций при этих двух состояниях далеки от идеальных: необходимость реопераций в связи с формированием фистулы, сохраняющимся искривлением полового члена и неудовлетворительным косметическим видом при гипоспадии сопоставима с необходимостью повторных вмешательств по поводу стеноза влагалища при ВГН [1].
Видимо, этот момент надо иметь в виду при выборе тактики хирургического лечения девочек с ВГН.
Итак, оперировать рано, в первые месяцы жизни ребенка, при достижении эндокринологической стабилизации или отложить вмешательство до пубертата? Если рано, то следует ли проводить полную одномоментную реконструкцию или лучше ограничиться лишь клиторопластикой, отсрочив выполнение вагинопластики до подросткового возраста? На оба этих вопроса однозначных ответов нет. И вряд ли они появятся в обозримом будущем, так как для этого потребуется проведение всеобъемлющего проспективного мультицентрового мультидисциплинарного исследования отдаленных результатов при каждом из подходов [2, 3]. Поскольку доказательства преимущества какого-либо из них отсутствуют, большинство хирургов руководствуются логикой и накопленным опытом, в том числе и при коррекции других пороков развития.
Так, было показано, что 78% детских хирургов и урологов из разных стран предпочитают выполнять феминизирующую генитопластику у детей раннего возраста (до 2 лет) и большинство из них делают это в один этап. Из опрошенных хирургов/урологов 84% сообщили об очень хороших/хороших результатах при клиторопластике и 74% – при вагинопластике [4].
В США за 2009–2012 гг. было детям проведено 219 первичных феминизирующих генитопластик. Чаще всего они выполнялись в раннем возрасте и почти в 90% включали вагинопластику: одномоментная пластика в 68% случаев проведена больным, средний возраст которых составлял 11,3 мес. (у больных младше 2 лет – в 74%). При сравнении с результатами аналогичного более раннего исследования (2004–2008) существенной разницы выявлено не было [5].
Сообщалось, что в Великобритании число проводимых клиторопластик детям в последнее время даже увели-чилось [6].
S. M. Creighton et al. [7] представили результаты повторного исследования, аналогичного тому, что они провели ранее [8]. Было показано, что в течение этого времени хирургическая тактика мало изменилась – большинство пациентов были оперированы в раннем детстве и 24 из 28 выполнялась одномоментная феминизирующая процедура. Несмотря на более хорошие результаты, отмеченные во втором исследовании, в отношении как коррекции гипертрофии клитора, так и создания функционального влагалища, авторы продолжали сетовать на то, что по существу косметические операции на клиторе продолжают проводиться, и недоумевали, почему эта ситуация не меняется.
Мы нашли лишь одну работу [9], авторы которой наблюдают 7 девочек в возрасте от 1 до 8 лет (средний возраст – 4,5 года), проводя им только консервативное лечение индивидуально подобранными высокими дозами глюко- и минералокортикоидов. Решение не оперировать этих пациентов принималось родителями, которым, как пишут авторы, «была предоставлена возможность обсудить лечение их детей с детским эндокринологом, гинекологом… и, если потребуется, с детским урологом». При этом ниже указывалось, что «некоторые больные могут выбирать» консервативное лечение. По-видимому, так эндокринологи, ратующие за непроведение операций в детском возрасте девочкам с ВГН, понимают работу в междисциплинарной команде и свою роль в ней.
С другой стороны, не понимают того, что в любом случае изначальное решение о том, как будет осуществляться лечение, принимают родители, а не сам ребенок.
И наконец, недавняя публикация вновь подтвердила данные, согласно которым абсолютное большинство и самих больных, и их родителей считают, что феминизирующая генитопластика должна проводиться на первом году жизни (89,7 и 100% соответственно) [10]. Интересно, что оба этих исследования [9, 10] проведены во Франции и опубликованы практически одновременно.
Итак, совершенно очевидно, что большинство хирургов в большинстве стран предпочитают оперировать девочек с ВГН рано и, как правило, одномоментно.
Однако необходимо отдельно остановиться и на двухэтапной коррекции, поскольку, по некоторым данным [11], она становится популярной и, что самое важное, как представляется, является основным способом хирургического лечения у нас в стране.
Двухэтапный подход (проведение хирургической коррекции наружных половых органов [НПО] младенцам с отсрочкой вагинопластики до пубертатного или даже взрослого возраста) кроме перечисленных выше имеет и такое обоснование: «влагалище в детском возрасте не нужно» [6, 12]. Такая тактика представляет собой, на наш взгляд, «половинчатое» решение и лишена логики.
Действительно, если клиторопластика является косметической операцией [6, 13]; если хирургические вмешательства на клиторе, осуществленные в детстве, могут приводить к катастрофическим последствиям в отношении сексуальной функции у женщин [13, 14]; если клитор при адекватной гормональной терапии может значительно уменьшиться в размерах [6, 9] и если в дальнейшем девочка-подросток или взрослая женщина может решить, что вид НПО ее вполне устраивает, то зачем тогда выполнять клиторопластику? Логичнее будет вообще отказаться от оперативного лечения девочки и провести, если это потребуется, реконструкцию НПО одновременно с вагинопластикой позже.
Что же касается отсроченной вагинопластики, то здесь необходимо учитывать следующее: сама по себе операция (в ее различных вариантах) остается одной и той же вне зависимости от того, проводится она младенцам или подросткам/взрослым [2]. Однако подросткам выполнение ее технически сложнее [3], она тяжелее переносится в этом возрасте и особенно неподходящим является время начала пубертата [6]; лишь немногие хирурги имеют опыт ее проведения подросткам и взрослым [15].
В предыдущем абзаце мы ссылались на мнения ведущих хирургов, проведших массу пластических операций больным с НПД, что и позволяет им иметь свое мнение и высказывать его. А что позволяет эндокринологам [9] рассуждать о том, отличается ли технически отсроченное вмешательство на влагалище от такового, проводимого в первые месяцы жизни ребенка?
Еще одним аргументом в пользу отсрочки операции до пубертата является то, что в этом возрасте имеется эндогенная эстрогенизация тканей. Однако убедительно показано, что аналогичный эффект может быть достигнут и в отношении детей при местном применении эстрогенов за 4 нед. до вмешательства [3].
Но самое главное – это отсутствие доказательств, что отсроченная клиторопластика и вагинопластика дают лучшие результаты.
Теперь рассмотрим последний вопрос – о выборе способа проведения феминизирующей генитопластики.
Было показано, что прямой корреляции между степенью вирилизации НПО по Prader и высотой места впадения влагалища в урогенитальный синус (УГС) нет [16, 17]. Это подтверждается и результатами обследования пациентов, которые поступили для проведения оперативного лечения в рамках конференции. Они специально не отбирались, поскольку были приглашены все больные, находившиеся в тот момент на диспансерном учете в двух регионах. Из 7 девочек (одна не была оперирована) с III–IV степенью вирилизации по Prader (надо подчеркнуть, что ни у одной не было V степени) у 4 был диагностирован высокий УГС. Такая частота «высокого» УГС оказалась неожиданной, поскольку из 8 девочек, ранее оперированных в одном из этих двух регионов, лишь одна имела такой вариант патологии, причем при V степени вирилизации [18].
У этих четырех девочек при проведении уретроцистовагиноскопии впадение влагалища было найдено выше наружного уретрального сфинктера (НУС), т.е. в задней уретре – в месте, где у мальчиков в норме располагается семенной бугорок. Таким образом, УГС классифицировался согласно классической работе W. H. Hendren и J. D. Crawford [19]. Эти авторы постулировали, что при слиянии уретры и влагалища выше НУС для низведения последнего необходимо его отделение от уретры. В противном случае потребуется пересечение сфинктера с риском развития недержания мочи.
Однако очевидные в то время вещи теперь перестали быть таковыми. Одновременно с накоплением знаний закономерно возникали и противоречия. Постепенно становилось ясным, что деление УГС на «высокий» и «низкий» не охватывает весь спектр возможных вариантов, поэтому R. C. Rink и M. C. Adams [20] пришли к заключению о необходимости выделения и «промежуточного» УГС, при котором слияние влагалища и уретры происходит хотя и дистальнее НУС, но все-таки далеко от промежности. Позже те же авторы предложили принципиально новую классификацию [21], которая и вызвала ненужные, на наш взгляд, противоречия. Кроме описания УГС в нее вошло измерение фаллоса (его длины и ширины) и оценка вирилизации НПО по Prader, но с включением еще двух степеней (0 и VI). В основу описания УГС было положено измерение расстояний от точки впадения влагалища до шейки мочевого пузыря (длина уретры) и до меатуса на промежности (длина общего канала), но никаких градаций УГС предложено не было и, соответственно, рекомендаций по выбору способа хирургической коррекции.
В доступной литературе мы не нашли свидетельств применения этой классификации в полном виде, тем не менее НУС практически перестал упоминаться в качестве ориентира и разграничительной линии. Вместо этого стали использовать длину УГС и длину уретры для выбора операции и одновременно для градации синуса.
Первоначально рассматривалась длина УГС (общего канала). Так, L. Braga et al. [18] считали УГС «низким» при длине менее 2,5 см и выполняли его частичную (или дистальную) мобилизацию; в случаях «высокого» УГС (при длине более 2,5 см) проводили отделение влагалища от уретры и его низведение. Другие авторы полагали, что разделение уретры и влагалища с последующим низведением последнего становится необходимым при очень высоком их слиянии (более 3 см) [23, 24]. Было показано [25], что при длине общего канала до 2 см было достаточно проведения частичной мобилизации синуса, при длине 2,5–3,5 см – полной (или проксимальной) мобилизации и при длине более 4 см требовалось сочетание полной мобилизации синуса с отделением влагалища и его удлинением за счет привлечения переднего лоскута.
Такой разброс значений представляется вполне закономерным, поскольку длина общего канала УГС зависит от степени вирилизации клитора: при значительной его гипертрофии часть общего канала проходит вдоль вентральной поверхности удлиненных кавернозных тел и иногда может достигать вершины головки в виде пенильной уретры (при V степени по Prader). Ввиду этого длина УГС не имеет обратно пропорциональной зависимости от длины уретры и не является надежным критерием [26]. К тому же УГС проходит большей частью параллельно коже промежности и не может отражать глубину (высоту) слияния уретры с влагалищем [27]. В связи с этим многие авторы отдавали или стали отдавать предпочтение длине уретры, считая, что она должна быть не менее 1,5–2 см для того, чтобы после мобилизации УГС ее меатус имел ортотопическое положение [17, 24, 26, 28]. И опять УГС стали подразделять на «высокий» и «низкий» в зависимости от длины, но теперь не общего канала, а уретры: менее или более 1,5 см соответственно [28].
Наконец, для определения протяженности диссекции, необходимой для достижения места впадения влагалища в УГС, а значит, и сложности операции было предложено еще одно измерение: на боковых генитограммах от метки на коже промежности вертикально вверх до точки слияния влагалища и уретры [17, 27].
Таким образом, использование длины проксимальной уретры и/или общего канала для выбора способа хирургической коррекции УГС, по-видимому, оправданно, хотя, на наш взгляд, и не обязательно с практической точки зрения. С другой стороны, одновременное использование тех же показателей для градации синуса и привело к тем противоречиям, на которые мы указали выше. В частности, появились такие варианты, как «умеренно высокий» и «очень высокий» УГС без четкого разграничения их между собой и от просто «высокого». В связи с этим представляется, что НУС остается самым важным и надежным критерием подразделения УГС на «высокий» и другие менее выраженные его варианты, а также выбора операции. Однако это утверждение требует ряда уточнений.
Во-первых, следует подчеркнуть, что речь идет только об УГС у девочек с ВГН и возникшей у них на этом фоне вирилизацией. Другие виды УГС, имеющие иную анатомию, здесь не рассматриваются. Есть мнение, что при вирилизации девочек с ВГН уретра выше места слияния с влагалищем всегда нормально развита, и это позволяет проводить мобилизацию УГС в абсолютном большинстве случаев [27]. Более того, в комментарии к статье J. Pippi Salle et al. [29] R. González и B. Ludwikowski [30] указывали, что они полностью отказались от операций, при которых осуществляется отделение влагалища от уретры, и при этом не наблюдали каких-либо нарушений мочеиспускания (в том числе недержания мочи).
Во-вторых, и в связи с градацией УГС на «высокий» и другие его варианты, и в связи с утверждением R. González и B. Ludwikowski, приведенным только что, необходимо обратиться к анатомии НУС, а также уретры и влагалища, в том числе к их иннервации.
A. Pena et al. [31] отмечали, что НУС изображался в статьях W. Hendren в виде петли вокруг уретры дистальнее впадения в нее влагалища, тогда как по их опыту он скорее представляет собой мышечную структуру, гомогенно распределенную вдоль всего УГС. R. González и B. Ludwikowski [30] указывали, что W. Hendren и J. Crawford [19] предложили концепцию, согласно которой у некоторых девочек с ВГН слияние влагалища и уретры может располагаться выше того, что они называли наружным сфинктером; эта концепция, по мнению авторов комментария, была основана скорее на эндоскопической картине, чем на анатомических данных.
Действительно, было показано, что в норме у детей обоего пола НУС является комплексной структурой и имеет омего- или подковообразную форму, не полностью охватывая уретру сзади [32]. У девочек задняя стенка уретры покрыта богатой нервами и сосудами соединительной тканью, которая интимно связана с передней стенкой влагалища. Эти авторы [32], в отличие от A. Kokoua et al. [33], не нашли ни на одной из стадий эмбрионального развития НУС в виде замкнутого кольца.
С другой стороны, было отмечено, что морфология НУС зависит от половой принадлежности: если у мужчин он имеет омегообразную форму, то у женщин выглядит в виде полукруга. Отсутствие сфинктера по задней полуокружности уретры и тесная ее связь с влагалищем обусловлены опусканием последнего с одновременным формированием задней стенки уретры в процессе эмбриогенеза [34]. В указанной обзорной статье [34] можно найти и другие важные детали анатомии, в том числе касающиеся иннервации НУС и влагалища.
Здесь важно отметить, что выше крайне сжато были представлены сведения о нормальной анатомии, которая может отличаться от таковой у девочек с нарушенным развитием уретры и влагалища из-за внутриутробного воздействия андрогенов и в результате этого сформировавшимся УГС. Поскольку мы наблюдали НУС в виде петли у девочки с высоким синусом при V степени вирилизации [18], это предположение не кажется сомнительным. По-видимому, у таких больных хирург может столкнуться с различными вариантами анатомии, поэтому к категоричному утверждению R. González и B. Ludwikowski надо относиться с осторожностью.
Итак, подведем итог обсуждению противоречий, связанных с градацией УГС и выбором способа его хирургической коррекции. Безусловно, «золотым» стандартом при оперативном лечении большинства девочек с УГС при ВГН в настоящее время является та или иная (дистальная или проксимальная) мобилизация синуса, уретры и влагалища единым блоком. Сохранение интимной связи уретры с влагалищем, а значит, и максимальное сохранение иннервации этих органов должны способствовать улучшению результатов вагинопластики в отношении как удержания мочи, так и сексуальной функции [11].
Эта процедура показана прежде всего при различных вариантах «промежуточного» УГС. Она может выполняться «в чистом виде» или в сочетании с замещением недостающей дистальной части влагалища тканью УГС (передний лоскут или лоскут Passerini) и/или перинеальным кожным лоскутом (задний лоскут или лоскут Fortunoff). Лишь при действительно «низком» УГС его мобилизация может не потребоваться. Наконец, при «высоком» УГС (надсфинктерном впадении влагалища) и короткой уретре может возникнуть необходимость дополнительно прибегнуть к отделению влагалища с последующим его низведением на промежность. Мы убедились в том, что для этого передний сагиттальный аноректальный доступ (ASTRA) [28] действительно оптимален. Альтернативой может служить лапароскопическое ассистирование при промежностном (типичном) доступе [35].
При выполнении мобилизации УГС важно учитывать некоторые технические детали, основанные на анатомических данных. Диссекцию спереди следует проводить как можно ближе к лонной кости, а латеральную – в нескольких миллиметрах от влагалища. Сзади мобилизация всегда должна осуществляться до брюшины для облегчения смещения вниз задней стенки влагалища и проводиться ближе к последнему, чтобы не повредить ректовагинальную фасцию [27].
Составной частью феминизирующей генитопластики служит уменьшение гипертрофированного клитора – клиторопластика. Последним предложенным для этого методом является операция Pippi Salle [29], которая принципиально отличается от остальных сохранением всех анатомических структур клитора, что соответствует принятым сегодня в странах Запада принципам. К тому же оставленные кавернозные тела теоретически могут быть использованы при фаллопластике в случае неудовлетворенности назначенным полом и желания его смены.
С другой стороны, серьезное обсуждение в литературе результатов клиторопластики привело к общепринятой точке зрения на то, что любое вмешательство на клиторе должно сопровождаться минимальным повреждением чувствительности его головки, тем более ее кровоснабжения. По этой причине, рассматривая все аспекты операции Pippi Salle, являющейся, по сути, аналогом «разборки» полового члена у мальчиков, надо вспомнить историю клиторопластики.
Полное выделение кавернозных тел (и здесь неважно, для их резекции или оставления с погружением в подкожные карманы) даже при тщательном предохранении сосудисто-нервных пучков, идущих к головке, может закончиться ее лизисом. При операции Pippi Salle после мобилизации кавернозные тела к тому же отделяются от головки, а «уретральная площадка», находящаяся между ней и меатусом УГС, пересекается уже на раннем этапе вмешательства – все это в какой-то степени может усугублять возможные нарушения питания оставляемой головки клитора. Следующий момент: сохранение кавернозных тел теоретически может сопровождаться появлением болезненных эрекций при половом возбуждении, из-за чего, собственно, перестали использовать распространенные раньше методы пликации клитора и погружения его под кожу. Кроме того, рассматриваемая операция трудоемка и занимает много времени.
После детального рассмотрения хода операции Pippi Salle и последующего всестороннего ее обсуждения мы пришли к выводу, согласно которому клиторопластика по Kogan, техника которой подробно описана [18], предпочтительна: последняя значительно проще и сопровождается минимальным риском нарушения иннервации и кровоснабжения головки клитора. Вопрос о «целесообразности» оставления кавернозных тел у девочек с ВГН был рассмотрен выше.
Считается, что при операции Kogan иссечение эректильных тканей лучше проводить через разрезы на вентральной поверхности клитора, параллельные «уретральной площадке», а головку клитора по возможности оставлять интактной (без какой-либо пластики) [2, 11, 36]. Также желательно сохранять внутренний листок препуция клитора с последующим формированием из него «капюшона» над головкой [2].
Наконец, внедрение фаллопластики у детей [37, 38] позволяет отказаться от назначения женского пола больным с микропенисом и афалией. Однако подробное рассмотрение этого вопроса находится за рамками данной работы.
Несмотря на большое число проведенных исследований, многие важные вопросы, касающиеся проблемы НПД, все еще далеки от своего разрешения. Отсутствие общепринятых рекомендаций по хирургическому лечению детей с ВГН и кариотипом 46,ХХ диктует необходимость всестороннего обсуждения этого вопроса заинтересованными специалистами, прежде всего детскими урологами и эндокринологами, с выработкой единого подхода. В основе последнего, по нашему мнению, должны лежать традиционные взгляды и принципы, выработанные детскими хирургами на протяжении долгой истории коррекции врожденных пороков развития. Для улучшения результатов феминизирующей генитопластики необходимо внедрение в практику обоснованных современных методов ее проведения.